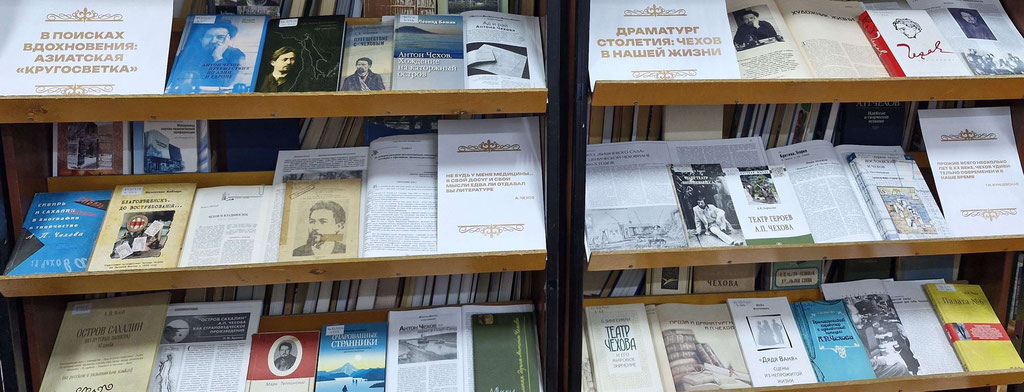Сегодня, 29 января исполняется 165 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (17 /29/ января 1860 — 2 /15/ июля 1904)
Оба появились на свет в 1860 году – будущий классик отечественной литературы в январе, а город, которому пророчили владеть востоком, в начале лета. Когда обоим уже было по 30 лет, осенью 1890 года судьбе угодно было устроить им встречу.
Во Владивосток Чехов приехал 15 октября 1890 года. Он уже знаменит, автор таких шедевров, как «Степь» и «Скучная история», а его «Иванов» прошёл в Алесандринке, но всё ещё ходит в молодых авторах. При тогдашнем вкусе к социально-критической тенденции его рассказы кажутся слишком холодными, препараторскими. Не видит критика в его прозе «горячего сочувствия к народу».
Между тем, он внук крепостного. Его отец мелкий таганрогский лавочник. Всё детство учёбу в гимназии приходится совмещать с работой в лавке. А потом и вовсе несладко — отец разорился, и семья бежала от долгов в Москву. Чехов остался в Таганроге, жил уроками, доучивался на городскую стипендию как неимущий и умудрялся посылать деньги родным. Приехав в 1879 году в первопрестольную поступать в университет на медицинский, застал семью в нищете и неустройстве. Взвалил на себя и материальное обеспечение, и обустройство домашнего быта. Зарабатывал на литературных публикациях. Его дебют в печати состоялся в декабре того же года: журнал «Стрекоза» опубликовал чеховский рассказ «Письмо к учёному соседу» и юмореску «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.».
Занятия в университете Антон Чехов совмещал с постоянной литературной работой. В основном публиковался под псевдонимом Антоша Чехонте, позднее появились другие – «Врач без пациентов», «Дяденька», «Человек без селезёнки», «Балдастов», «Антонсон», «Брат моего брата» — всего около пятидесяти. Чехов печатался в московских юмористических журналах «Будильник», «Зритель», «Осколки», сотрудничал с «Петербургской газетой», газетой «Новое время» и «Русскими ведомостями».
Природный юмор и молодое здоровье позволяли ему совмещать совсем нелёгкую университетскую учёбу с изнурительной журнальной подёнщиной. Не зря Корней Чуковский называл его человеком с железной волей. Торопясь закончить в срок очередной «осколок», он уже думал о большой литературе. И пробился. Его начали принимать всерьёз, его имя зазвучало. В 1882 году завершил работу над первым сборником рассказов «Шалость», но напечатан он так и не был. Первый сборник писателя «Сказки Мельпомены» увидел свет в 1884 году. И, что совсем немало, появились первые серьёзные деньги. Он мог бы прокатиться за границу, как делали тогда все. А вместо этого Чехов выбивает себе разрешение посетить страшный каторжный остров Сахалин и отправляется в путь через всю Сибирь. Только на лошадях по бездорожью и непогоде 4000 вёрст. К этому времени он уже знает, что у него начался туберкулёзный процесс. На Сахалине этот «индифферентист» за три месяца побывал едва ли не в каждой избе, каждой тюремной камере. В одиночку провёл перепись населения. Видел нечеловеческие условия работы в шахтах, беспросветную, отчаянную нужду. Он лечил ссыльных, выкраивал из своих средств деньги на то, чтобы помочь, кому возможно. После того как ему довелось присутствовать при наказании плетьми, у него началось «мерцание в левом глазу» и головные боли. Он видел ад на земле.
С таким багажом Чехов и прибыл во Владивосток 15 октября 1890 года.
«Во Владивостоке в мирное время, по крайней мере, живётся нескучно, по-европейски… Если Вы охотник, то сколько разговоров про охоту на тигров! А какая вкусная рыба! Устрицы по всему побережью крупные вкусные… Вы пишите, что читать во Владивостоке нечего. А библиотеки? А журналы?» Это Чехов написал в письме Б. Лазаревскому четырнадцать лет спустя, накануне Русско-японской войны. Но вот, что он писал в 1890 издателю «Нового времени» Суворину, с которым тогда дружил: «Был я во Владивостоке. О Приморской области и вообще о нашем восточном побережье с его флотами, задачами и тихоокеанскими мечтаниями скажу только одно: вопиющая бедность! Бедность, невежество и ничтожество, могущие довести до отчаяния. Один честный человек на 99 воров, оскверняющих русское имя».
Впрочем, он, конечно, понимал, что как раз эти самые государственные «тихоокеанские мечтания» породили город.
1880 год стал не только годом начала литературной карьеры Чехова, в этом году Владивосток официально объявлен городом и выделен из состава Приморской области в самостоятельную административную единицу.
Ещё через десять лет, в 1890 году Владивосток насчитывал 13 тысяч жителей, среди которых множество китайцев, корейцев и японцев. Город весь сосредоточен на северном берегу бухты Золотой Рог, по большей части, деревянный. Немощёные грязные улицы, стаи бродячих собак, крысы. Окраины отделены от центра огромными оврагами, которые в ненастье заполнялись водой и делались совсем непроходимыми. Проблемы с питьевой водой. Естественно, нет ни водопровода, ни канализации. Но всё же имеется уже 145 каменных строений, среди которых двух и трехэтажные дома в центре, где, в частности, помещаются магазины компаний «Кунст и Альберс», «Чурин и Касьянов», гостиницы «Золотой Рог» и… «Отель дю Лувр». На центральной улице, Светланской, имеется даже уличное освещение — 120 керосиновых фонарей. Здесь же и такие приметы благоустройства, как деревянный тротуар по одной стороне и сточные канавы. И хотя четверть городских детей неграмотно и не обучается в школах, но есть и образовательные учреждения — начальные школы, приходское училище, мужская гимназия, Мариинское женское училище. Оказывается медицинская помощь. Правда, гражданский, городской, врач — «для оказания подачи пособия неимущим» — только один, а из медицинских учреждений — только Морской госпиталь на 150 коек, два военных лазарета, да «околоток», где лечат проституток, больных профессиональными болезнями. Связь с метрополией осуществляет Почтово-телеграфная контора, а с заграницей, Шанхаем и Нагасаки, Датская телеграфная компания.
Для увеселения публики существует городской сад «Италия». Как отмечал городской голова И.И. Маковский, «Владивосток весьма богат питейными заведениями, трактирами и харчевнями низшего разряда и другими подобными притонами», но уже открыта силами Общества изучения Амурского края читальня. Организовано Общество народных чтений, проводятся чтения в Морском и Военном собраниях. В доме Галицкой, где устроена сцена, ставят пьесы участники Общества сценического искусства, а в 1887 году даже приезжала с гастролью профессиональная труппа. Объединились в свои общества охотники и любители хорового пения. Функционирует клуб приказчиков. Всё это колониальное благолепие, правда, не мешает людям сходить с ума по далёкой родине. «В нашем Владивостоке среди чиновников и моряков нередко наблюдается ностальгия; я сам видел там двух сумасшедших чиновников — юриста и капельмейстера».
«Владивостокский городской голова как-то сказал мне, что у них во Владивостоке и вообще по всему восточному побережью «нет никакого климата», — пишет Чехов в «Острове Сахалин». Игнатий Иосифович Маковский, отпустивший эту шутку, как известно всякому владивостокцу, был вовсе не далёк от истины. Но середина октября 1890 года была тёплой и солнечной. Это особенно чувствовалось после сахалинского ненастья. И, тем не менее, сказать, что встреча Владивостока и Чехова случилась совершенно безоблачной нельзя. Только что прошла эпидемия холеры: «Со всех сторон глядит на меня зелёными глазами холера, которая устроила мне ловушку. Во Владивостоке, Шанхае, Чифу, Суэце и, кажется, даже на луне — всюду холера, везде карантины и страх… Во Владивостоке мрут европейцы, умерла между прочим одна генеральша». И, может быть, безопаснее всего ограничить своё пребывание на берегу. Но Чехов решает иначе. Первый день, 15 октября, его пароход «Петербург-I» разгружается на рейде. На следующее утро, едва представляется возможность, писатель сходит на берег.
Первым делом отправляется по официальному поводу (получить разрешение на паспорт) — в полицейское управление. Потом в городскую управу. Там он познакомится с И.И. Маковским и, видимо, получит приглашение к нему домой, в особняк на Фонтанной, за год того построенный. Это, кстати, рядом, всего «в двух шагах». Впрочем, тогда во Владивостоке всё — «в двух шагах». Потом отправит из почтово-телеграфной конторы телеграмму своим, на адрес брата: «Ефремов. Податному инспектору Чехову. Буду Москве десятого декабря. Плыву Сингапур». 17 числа Чехов внесёт деньги за паспорт во Владивостокское уездное казначейство, снова зайдёт в полицейское управление — получить паспорт. В канцелярию военного губернатора, где вице-губернатор поставит свою визу. Один день — и загранпаспорт готов: двуглавый орёл, «Врач Антон Павлович Чехов отправляется морским путём за границу», дата выдачи и подпись Чехова на французском и русском языках.
Это хождение по конторам как-то удивительно очеловечивает образ гения! Разумеется, Чехов погулял и по городу, полюбовался с Тигровой сопки панорамой Амурского залива, где «ходил настоящий кит и плескал хвостищем». Заглянул в один из универсальных магазинов вместе со своим попутчиком — трогательная примета времени — иеромонахом Ираклием, сахалинским священником и миссионером. Побывал в Успенском соборе — он, несмотря на свой университетский материализм, любил бывать в церквях — и в Морском госпитале. Всё остальное свободное время провёл в библиотеке Общества изучения Амурского края. Как раз 30 сентября того года она переехала в специально построенное здание, где разместились фонды и музейные коллекции. Работа над «Островом Сахалин» продолжала оставаться главным для него. А именно в Обществе изучения Амурского края были собраны ценнейшие книжные фонды и коллекции, которые могли ему помочь в этой работе. И в числе прочего комплект газеты «Владивосток» за все восемь лет её издания. («Во Владивостоке издаётся очень хорошая газета «Владивосток», в которой публикуется много корреспонденций, статей и официальных распоряжений, касающихся Приморской области, Амура и даже Камчатки».) О том, как интенсивно он там трудился, говорят цифры. Список источников к книге, который до этого составлял 67 единиц, вырос до 200.
19 октября 1890 года Чехов отбыл из Владивостока. Пароход «Петербург-I» взял курс на Сингапур. Вот, собственно, и всё. Несколько дней, таких деловых, таких обыденных. Через год, летом 1891, Владивосток посетит малоталантливый Николай Александрович Романов (обратили внимание, как меняется восприятие, если не добавить «будущий император»?), и в память об этом событии, в аккурат напротив библиотеки Общества изучения Амурского края, возведут триумфальную арку. О визите же Чехова даже в «очень хорошей газете «Владивосток» упомянет только бездарный рифмоплёт-фельетонист ЦЭЦЭ, обиженный на писателя за то, что тот недостаточно высоко оценил душевные и внешние качества сибирских женщин.
Чеховеды не придают этим пяти дням никакого значения. Но какой-то странной нотой звучат эти слова Чехова из письма Лазаревскому за несколько месяцев до смерти: «В июле или августе, если здоровье позволит, я поеду врачом на Дальний Восток. Быть может, побываю и во Владивостоке»…
(подготовлено по материалам Общества изучения Амурского края)
Вновь появиться во Владивостоке Чехову случилось на день города, 2 июля 2018 года, когда на Набережной открыли бронзовый памятник писателю. Правда, в краевом центре есть ещё улица Чехова, но размеры её невелики, а состояние, пожалуй, даже хуже того, что довелось видеть Антону Павловичу 135 лет назад. Только это мало кого волнует из властей как минимум последние лет тридцать…
Сергей СЕМЁНОВ